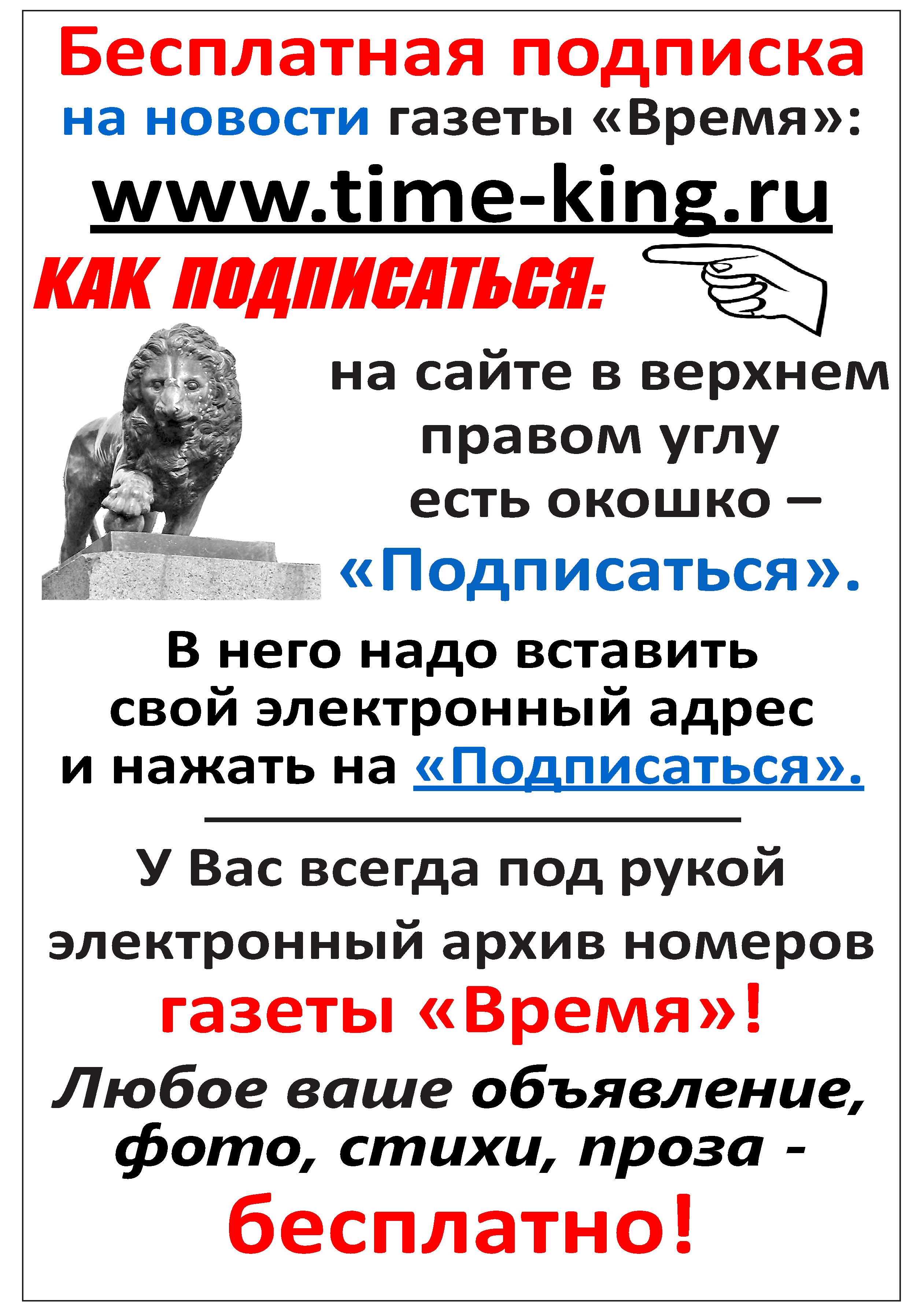Хранители водской культуры на земле ленинградской
В России осталось всего несколько десятков представителей води — самого малочисленного финно-угорского народа. Большая часть из них живет в деревнях Ленинградской области вблизи Финского залива.
Лужицы в Кингисеппском районе — одно из исторических поселений води.
На центральной улице на въезде в деревню возвышается небольшое здание магазина, рядом с которым припарковано несколько автомобилей. За ним — пара десятков небольших деревянных домов, среди которых выделяется большое одноэтажное здание с бревенчатыми стенами, широкой террасой и каменной кладкой на одной из стен.
Светловолосая женщина выходит из машины, торопливо отпирает дверь этого дома и, не снимая пуховик, проходит внутрь. Повсюду в просторной усадьбе развешана вышивка, а на столе у окна аккуратно выложены фотографии: на старых и современных снимках — лужицкие дома, семьи и деревенские праздники.
Марина Ильина — хранитель Музея водской культуры, который находится в Лужицах. Оба ее родители — вожане. Марина училась в ЛИВТе («Макаровка»), а сейчас живет в Лужицах и занимается музеем. Она говорит, что теперь ее основная задача — попытаться сохранить водскую культуру от исчезновения.
— Восемь человек владеют водским как родным, — мимоходом бросает она. — Уходят старые вожане. Каждый человек, который владеет языком и который может рассказать об истории деревни, на вес золота.
Марина подходит к длинному деревянному столу и выкладывает из плетеной корзины горшок с еще теплой пшенной кашей и ватрушки для пожилых вожанок, которые должны прийти сюда заниматься водским языком.
— Когда говорят «вас так мало», я отвечаю: нас так много. Исходя из того, что народ по всему миру разбросали.
Водь — самый малочисленный народ Ленобласти и признан исчезающим народом России. По данным последней переписи, вожан — 64 человека. Большая часть живет в Ленинградской области — деревнях Лужицы, Котлы и Краколье, в Усть-Луге, Сосновом Бору. Есть вожане также в Петербурге и Эстонии.
Деревня Лужицы раньше и сейчас
В 1500 году, когда появилось первое упоминание о Лужицах, согласно записям, в деревне проживало восемь человек. Своего пика население достигло к Великой Отечественной войне: в 1943 году на территории деревень Лужицы и Пески (позже их объединили, оставив название первой) проживало около 550 человек.
Вожанка в теплой красной куртке и вязаной шапке с цветком присаживается на скамью у стола и оживленно начинает рассказывать о детстве, проведенном в деревне:
— Мы здесь родились и выросли. Наши родители, бабушка с дедушкой были вожане. Все они на нашем кладбище — можно по нему идти и родословную составлять.
Нина Константиновна Виттонг родилась в Лужицах в послевоенное время — в 1947 году. В советские годы здесь был колхоз, а многие деревенские жители работали на рыбокомбинате.
— У нас большая была деревня. У каждого - свое хозяйство — и скотина, и огороды. Было много молодежи, клуб, кино два или три раза в неделю, танцы. Ходили на Финский залив, красную рыбу ловили, лосося — он почему-то в основном зимой был. У нас всегда была бочка с вяленой рыбой.
После школы Нина Константиновна уехала учиться в Петербург, затем много лет работала неподалеку, в Кингисеппе, и вернулась в деревню с мужем, только выйдя на пенсию.
Возвращение в родной дом
Пожилая женщина в узорчатом платке заходит в комнату, приветствует других жительниц деревни на беглом водском и достает из сумки упаковку конфет. Женщины обмениваются несколькими фразами на родном языке, иногда добавляя в них русские слова.
Зинаида Андреевна живет в соседней деревне Краколье и по профессии учительница. «Всю жизнь язык запрещали, молодежь просто не хотела его учить. Говорила: пусть бабки говорят. А теперь мы сами бабки», — произносит она ровным негромким голосом, с улыбкой прищуривая глаза.
В 1943 году, когда Зинаиде Андреевне было пять лет, ее — вместе с семьей и со всей деревней — депортировали из Лужиц в Финляндию. У Марины Ильиной туда увезли обоих родителей. «Повели всех в трюм. Был 9-балльный шторм — так все решили, что их повезли топить в Балтийское море», — рассказывает Марина.
Через год вожанам разрешили вернуться в Советский Союз, но в родные деревни не пустили, а вместо этого разослали по разным областям.
Зинаида Андреевна смогла вернуться в Лужицы вообще только в 1954 году: вскоре после того, как ее семья оказалась в СССР после финской депортации, их опять выслали по постановлению НКВД о выселении с приграничных территорий неблагонадежного народа. «Неблагонадежного в том смысле, что разговаривали на непонятном языке», — поясняет Марина.
Семье Савельевой удалось перебраться в Эстонию, где они прожили несколько лет.
— Десять лет мы не могли вернуться в родной дом. Через залив к финнам, потом приехали сюда — нас отсюда не домой повезли, а в Новгородскую область…
После того как вожане были высланы из деревни, Лужицы опустели. Но иногда дома занимали посторонние люди, поэтому бывало, что, вернувшись на родину, некоторые семьи были вынуждены поселиться не в своем доме.
Ни во время депортации, ни после, вспоминают вожане, родители не обсуждали с ними происходящее. «Заставляли молчать. И правильно: надо было выживать», — добавляет Зинаида Андреевна и, оборвав тему депортации, начинает обсуждать с вожанками новости деревни.
Народ и порт
Вновь жители Лужиц оказались перед угрозой выселения в начале 2000-х, когда стали сооружать порт в Усть-Луге. Тогда сообщалось, что из-за строительства промзоны деревню должны снести.
Когда начались разговоры об этом, многие предостерегали, что это приведет к вымиранию водского народа. Например, директор Института языкознания РАН Виктор Виноградов писал в Минэкономразвития с просьбой защитить деревню — одно из последних мест компактного проживания води. «Переселение носителей водского языка из традиционных мест проживания неминуемо повлечет за собой смерть языка», — заявлял тогда Виноградов.
Позже южную границу порта пересмотрели — в итоге она не затронула Лужицы, хотя и вплотную подошла к ней. Деревня осталась на своем месте. Сегодня жители об этом практически не говорят: деревню сохранили, и к теме порта больше стараются не возвращаться — устали.
Хотя из-за строительства объектов порта территория вокруг изменилась — например, лесов рядом с Лужицами стало значительно меньше. С другой стороны, в порт пошла работать часть местного населения, а деревни стали пополняться новыми жителями.
Как возник интерес к традициям и языку вожан
Водь долгое время была закрытым народом, говорит Марина. Во-первых, на этой территории была погранзона, во-вторых, его численность всегда была сравнительно небольшой. В итоге в деревнях долгое время сохранялся свой уклад жизни.
— У нас были свои традиции — оказывается, они настолько древние, а для нас это была норма жизни. В детстве многие болезни лечили заговорами, были бабушки, которые «читали» (lukkama) — заговаривали ушибы, кожные и глазные болезни. Это было нормально, я думала, все так делают, — пожимает плечами Ильина.
Пока женщины пьют чай, сидя в прохладном помещении музея, Марина раздает им головные уборы «саппано» с ручной вышивкой — подарки от Екатерины Кузнецовой, которая возглавляет петербургское Общество водской культуры.
В районе Усть-Луги было много смешанных семей. В русском языке вожан даже часто называли ижорами, хотя в своих языках для двух народов использовались разные слова.
В Лужицах историю вожан активно изучать начала местная жительница Татьяна Ефимова. Она, сама имеющая вепские корни, вышла замуж за вожанина — брата Нины Виттонг — и переехала в деревню. Вначале Ефимова занималась своей родословной, но потом заинтересовалась и историей всего народа, открыла в Лужицах первый музей и стала проводить праздники водской культуры.
— Ей было интересно, что это за люди. Она ездила по музеям, архивам — тогда уже и нас потянуло, — вспоминает Нина Константиновна.
— Сейчас начинаешь забывать слова — и даже не у кого спросить. Иногда ночью не сплю и думаю, как то, как это называется, — подхватывает другая вожанка, Таисия Александровна Михайлова. Как и другие женщины, она приходит на занятия по водскому языку, которые в музее проводит молодой специалист Никита Дьячков, также преподающий ижорский.
Так как водский всегда был в первую очередь разговорным языком, письменности как таковой не существовало — ее создали на основе латинского алфавита только в 2000-е. Поэтому все книги, написанные на водском, современные — в основном это переводы.
Три музея и два пожара
Типичный водский дом разделен на две половины: зимняя и летняя. По традициям народа, летнюю половину могли отдать сыну, если он женился. Здание музея — с двумя комнатами, предбанником и огромным крытым двором — строили по размерам и планировке реально существующей усадьбы вожанки из Краколья.
— Это новодел, — уточняет Марина и показывает на большую белую печь в центре зимней половины. Печь пока только муляж, так как на настоящую после строительства здания уже не хватило средств.
Этот Музей водской культуры — уже третий в Лужицах. Два предыдущих музея, которые были открыты Татьяной Ефимовой, сгорели — в 2001 и 2006 годах. Один из них находился в ее доме. В деревне говорят, что в первом случае это был поджог, однако его виновников не установили. Пожар уничтожил многие ценные экспонаты и оригиналы старых фотографий.
— Фата моей мамы сгорела в первом музее, — Марина проходит мимо развешанных на стене старых фотографий. Теперь в музее висят в основном копии снимков. В углу двора стоит тяжелая каменная катушка для молотьбы — один из немногих экспонатов, который удалось спасти из огня.
Марина возвращается в комнату, чтобы обсудить с вожанками программу, с которой они будут этим летом выступать на ближайшем празднике деревни «Лужицкая складчина». Традиционно участницы коллектива «Вожанка» — женщины 70–80-летнего возраста — поют песни на водском языке, которые были собраны в разное время этнографами, изучавшими водь.
Виктория Взятышева
Фото Юрия Гольдштейна
Фоторепортаж можно посмотреть здесь: http://www.time-king.ru/photogallery?id=76